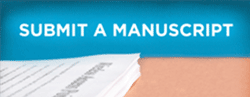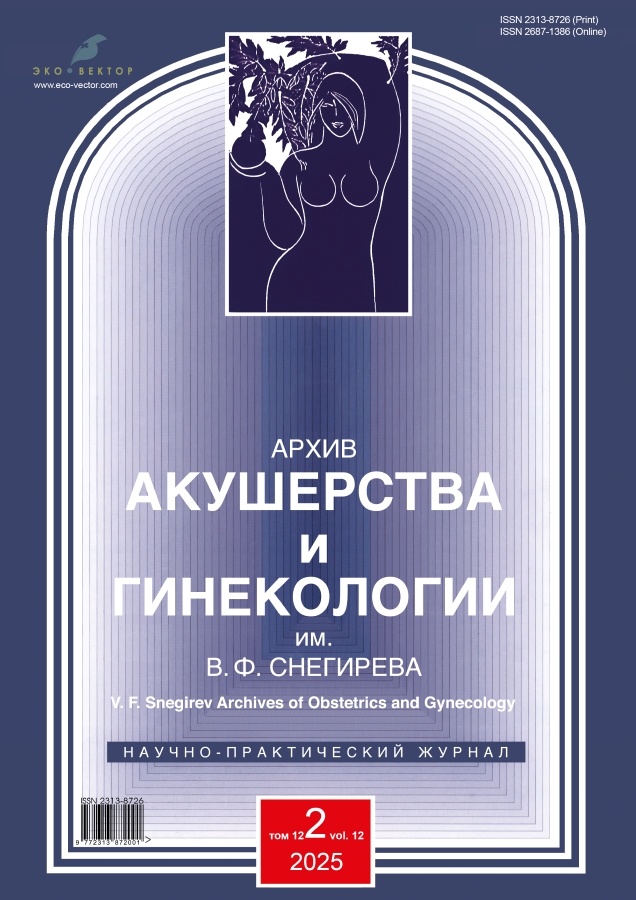Breaking new ground: the role of molecular methods in detection of bacterial vaginosis
- Authors: Kazantseva V.D.1, Gushchin A.E.2, Ozolinya L.A.1, Savchenko T.N.1, Dobrokhotova Y.E.1
-
Affiliations:
- The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
- Moscow Scientific and Practical Center of Dermatovenereology and Cosmetology
- Issue: Vol 12, No 2 (2025)
- Pages: 172-180
- Section: Reviews
- Submitted: 04.02.2025
- Accepted: 16.04.2025
- Published: 10.06.2025
- URL: https://archivog.com/2313-8726/article/view/653397
- DOI: https://doi.org/10.17816/aog653397
- EDN: https://elibrary.ru/MQHHWQ
- ID: 653397
Cite item
Abstract
Bacterial vaginosis is one of the most common disturbances of the vaginal microbiota in women of reproductive age and is associated with an imbalance between lactobacilli and opportunistic microorganisms. Traditional diagnostic approaches based on clinical symptoms and laboratory methods—primarily microscopy or culture—are often insufficient in terms of sensitivity and specificity for detecting this condition, which may lead to diagnostic errors. In recent years, molecular methods, including polymerase chain reaction and metagenomic analysis, have become valuable tools for more accurate diagnosis of bacterial vaginosis in obstetric and gynecological practice. These technologies not only enable identification of pathogenic microorganisms but also allow for quantification of their relative abundance, thus significantly improving diagnostic accuracy. This article reviews current molecular approaches for the detection of bacterial vaginosis, their advantages and limitations, and their application in clinical settings. Recent studies are analyzed to illustrate how molecular diagnostics can contribute to more precise diagnosis and individualized treatment approach. The prospects for incorporating these technologies into routine clinical practice are also discussed, with the potential to improve women’s health and reduce the recurrences of bacterial vaginosis. Thus, molecular methods represent a significant breakthrough in the diagnosis of bacterial vaginosis, opening new opportunities for effective therapy and prevention.
Keywords
Full Text
Организм человека представляет собой холобионт, состоящий из хозяина и различных микробов, взаимосвязь между которыми усилилась за полмиллиарда лет совместной эволюции [1]. Информация о микробиоте холобионтов известна благодаря исследованиям, в которых для культивирования применяли культуральные методы, однако с появлением новых технологий учёные выяснили, что биоразнообразие организма далеко за рамками микробных клеток, культивируемых данным методом, а, например, метод секвенирования более детально раскрывает микробное сообщество. В последние годы всё больше внимания сфокусировано на женском здоровье, особенно в отношении микробиома влагалища, содержащего миллиарды микробов, а изменения в котором происходят в течение всей жизни женщины [2].
Основываясь на исследованиях высокопроизводительного секвенирования, в микробиоме описано пять типов состояний сообщества (вагинальных микроорганизмов; CST — Community State Types). Исследование Ravel и соавт. [2] 396 женщин без симптомов бактериального вагиноза (БВ) из четырёх этнических групп показало, что в большинстве микробиомов преобладают один или несколько видов Lactobacillus, классифицирующихся по пяти CST. В CST I, II, III и V преобладают L. crispatus, L. gasseri, L. iners и L. jensenii соответственно, тогда как к CST IV относятся облигатные анаэробные бактерии. CST I, II, III и V выявлено у 89,7% европейских и 80,2% азиатских женщин, а у женщин негроидного и латиноамериканского происхождения эти процентные показатели составили 61,9 и 59,6% соответственно. Сдвиг в этнических группах очевиден, когда доминирует CST IV. Различия в микробиоме влагалища в зависимости от расы женщин могут быть обусловлены генетическими факторами, такими как иммунная система, лиганды на поверхности клеток эпителия, а также характер выделений из влагалища. Анаэробная среда во влагалище способствует росту Lactobacillus, которые продуцируют различные противомикробные соединения, такие как молочная кислота, перекись водорода Н2О2 и бактериоцины, тем самым обеспечивая состояние здорового микробиома влагалища и его защиту. Виды Lactobacillus являются основным источником L- и D-молочных кислот, поддерживающих pH во влагалище ниже 4,5, тогда как клетки эпителия производят около 20% L-молочной кислоты [1, 3].
Примечательно, что доминирующие виды Lactobacillus определяют степень защиты микробиома. Например, при нарушениях баланса в микрофлоре влагалища обычно преобладают L. iners. Напротив, L. crispatus, синтезирующие D- и L-молочные кислоты, обеспечивают состояние здорового микробиома влагалища [4]. В отличие от других видов Lactobacillus, L. iners не могут образовывать D-молочную кислоту, которая играет более важную роль, чем L-молочная кислота [1].
БВ — это состояние, характеризующееся увеличением в 100–1000 раз концентрации факультативно или облигатно-анаэробных микробов, таких как Gardnerella, Prevotella, Atopobium, Mobiluncus, Bifidobacterium, Sneathia, Leptotrichia и некоторые другие новые бактерии отряда Clostridiales, называемые БВ-ассоциированными бактериями [1, 5, 6]. Показатели распространённости БВ значительно различаются между географическими регионами мира, внутри одной страны и даже среди одного и того же населения в зависимости от этнического происхождения и социально-экономического статуса. Хотя его точную распространённость по-прежнему трудно определить, БВ встречается у 4–75%, в зависимости от изучаемой популяции [7].
Этиология и патогенез БВ остаются предметом острых дискуссий, при этом всё большее подтверждение получает концептуальная модель патогенеза БВ, предложенная Muzn и соавт. [8], в основе которой лежит половой путь передачи БВ-ассоциированных микроорганизмов, прежде всего Gardnerella spp. Распространённость зависит от количества половых партнёров и, по оценкам, составляет 18,8% у не живущих половой жизнью женщин, 22,4% — у женщин с одним половым партнёром на протяжении всей жизни, 43,4 и 58,0% — у женщин, имеющих 2–3 половых партнёра, и тех, у которых 4 и более половых партнёров соответственно [7].
Изменения в экосистеме микробиоты влагалища могут способствовать росту G. vaginalis, тем самым нарушая баланс между полезными и условно-патогенными микроорганизмами [9]. Факторами, способствующими БВ, считают состояние гипоэстрогении, применение ежедневных гигиенических средств, курение, ранее проведённую антибиотикотерапию, некоторые методы контрацепции (внутриматочные спирали, спринцевание), недостаточную активность лактобацилл, а причиной рецидивирующего БВ — набор определённых факторов вирулентности [10].
БВ во время беременности увеличивает риск самопроизвольного выкидыша, преждевременных родов, внутриутробной гибели плода, преждевременного разрыва плодных оболочек, хориоамнионита [7, 11].
Развитие БВ на ранних сроках беременности является фактором риска преждевременных родов, которые регистрируются примерно у 15 млн пациенток каждый год и являются основным фактором риска неонатальной смерти или рождения ребёнка с низкой массой тела [12].
В гинекологической практике БВ влияет на развитие эндометрита, сальпингита и инфекций мочевыводящих путей [7]. После повреждения шейки матки бактерии могут мигрировать из нижних половых путей в верхние, достигая матки и фаллопиевых труб, вызывая воспалительные заболевания органов малого таза, постгистерэктомические инфекции. БВ связан со значительным повышением частоты заражения некоторыми инфекциями, передающимися половым путём, такими как вирус простого герпеса типа 2, вирус папилломы человека, ВИЧ, а также хламидийной, гонококковой и трихомониазной инфекций [7].
Идентификация ассоциированных с БВ микробов при воспалительных заболеваниях органов малого таза указывает на их распространение от нижних к верхним половым путям, что может быть связано с ферментами, продуцируемыми микробами, ассоциированными с БВ. Эти ферменты (муциназа и сиалидаза) разрушают муциновый слой, выступающий защитным барьером, и способствуют восходящей инфекции, что приводит к воспалительным заболеваниям органов малого таза [1, 7].
Вышеперечисленное подчёркивает важное значение точной и эффективной диагностики и лечения БВ, что может быть ключом к предотвращению БВ-ассоциированных патологий.
БВ является наиболее частой причиной патологических выделений с неприятным запахом из половых путей у женщин репродуктивного возраста, но может протекать и бессимптомно.
Разнообразие микрофлоры влагалища у пациенток с БВ впервые описано в 1921 г. Schröder, а наиболее распространённый микроорганизм, идентифицируемый в вагинальных образцах женщин с БВ, впервые выделен Леопольдом из мазков шейки матки женщин и мочи мужчин в 1953 г., позже обнаружено, что он связан с БВ и назван Gardner и Dukes Haemophilus vaginalis в 1955 г. [1]. Впоследствии он отнесён к роду Corynebacterium, а по результатам двух таксономических исследований — в новый род Gardnerella и переименован в G. vaginalis [1]. C помощью полногеномного секвенирования G. vaginalis разделён на клады, которые обозначались цифрами 1, 2, 3 и 4, соответствующие подгруппам C, B, D и A, основанным на последовательности генов CPN60 [13].
Тем не менее до 2019 г. G. vaginalis рассматривался единственным видом рода Gardnerella. Проведённый Vaneechoutte и соавт. [14] анализ последовательности полных геномов 81 штамма Gardnerella дал основание рассматривать вместо одного вида Gardnerella vaginalis существование 13 различных видов рода Gardnerella, четырём наиболее распространённым из которых были присвоены таксономические наименования G. vaginalis (sensu stricto), G. piotii, G. swidsinskiy и G. leopoldii,. Авторы показали, что ранее описанная клада 1 включает два вида, из которых один описали как G. vaginalis (s.s.), а второй вид в дальнейшем не характеризовался [14].
Считается, что Gardnerella spp. является ключевым игроком в прогрессировании БВ, несмотря на то что может встречаться у определённой когорты женщин без симптомов БВ. Отмечено, что при рецидивирующем БВ G. vaginalis выявляется в 100% случаев, что вызывает интерес к вопросу о том, могут ли генетические различия между патогеном влиять на развитие и рецидивы БВ [15].
Выявление Gardnerella spp. отмечено у 40% клинически здоровых женщин [16]. Таким образом, колонизация Gardnerella spp. не всегда способствует развитию БВ, поэтому важно определить роль Gardnerella spp. в конкретном случае [7]. Вероятно, эта бактерия сама по себе необходима, но всегда недостаточна для развития БВ.
Swidsinski и соавт. [16], используя флуоресцентную гибридизацию in situ (FISH), специфичную для Gardnerella, были первыми, кто показал, что эти виды способны образовывать биоплёнки на эпителии влагалища у женщин с БВ, что объясняет причину наличия ключевых клеток, то есть клеток плоского эпителия влагалища, покрытых преимущественно видами Gardnerella, предоставляющих убедительные доказательства её этиологической роли в развитии БВ. В настоящее время остаётся открытым вопрос: все ли виды Gardnerella spp. обладают способностью образовывать биоплёнку, так как при других заболеваниях, где фигурирует образование биоплёнки, уже установлено, что не все штаммы одного и того же вида их образуют [9].
Оценка биоплёнкообразующей способности двух штаммов Gardnerella spp., выделенных от женщин с клиническими признаками БВ и без них, показала, что в первом случае способность к биоплёнкообразованию была значительно выше. Авторы исследования обнаружили, что последовательности предполагаемого гена семейства белков, ассоциированных с биоплёнками, весьма различаются у обоих изолятов, что потенциально может объяснить различия в формировании биоплёнок [17].
Белки, ассоциированные с биоплёнками, представляют собой крупные адгезины, закреплённые на клеточной стенке, которые могут обеспечивать как адгезию к клеткам-хозяевам, так и межклеточную адгезию, способствуя тем самым образованию биоплёнок [18].
В совокупности эти данные подтверждают теорию развития БВ, согласно которой наличие вирулентных видов Gardnerella spp. может лежать в основе развития БВ на различных стадиях формирования биоплёнки [8, 19].
В другой работе Swidsinski и соавт. [20] подчеркнули важность биоплёнки, образованной Gardnerella spp., когда заметили, что у половых партнёров женщин с БВ присутствовали только изоляты, образующие биоплёнки. Эти результаты приводят к предположению, что присутствие слабо прикрепившихся видов Gardnerella spp. к эпителию влагалища имеет небольшое клиническое значение и что БВ передаётся половым путём только при наличии скоплений высокой плотности Gardnerella spp. в биоплёнках. Связь между генотипами Gardnerella spp. и БВ неоднозначна [1]. В единственном исследовании экотипов G. vaginalis в 2017 г. были идентифицированы три экотипа в результате приобретения/утраты определённых функций генами на основе сочетания анализа филогенетической структуры [21]. В целом это способствовало выявлению связи между G. vaginalis и различными состояниями (здоровый микробиом, бессимптомный и симптоматический БВ), тем самым улучшив подходы к точной диагностике БВ.
Gardnerella spp. содержит множество факторов вирулентности, связанных с её патогенным потенциалом, из которых сиалидаза и вагинолизин наиболее широко изучаемы [1].
Сиалидаза осуществляет гидролиз остатков сиаловой кислоты из сиалогликанов слизи во влагалище, а затем катаболизирует свободные углеводы, тем самым способствуя разрушению слизистых барьеров влагалища [1]. Примечательно, что некоторые виды Gardnerella, в том числе G. swidsinskiy, G. leopoldii и определённая подгруппа G. vaginalis, обладают отрицательной сиалидазной активностью [14]. Также ген сиалидазы А ассоциирован с БВ и формированием биоплёнки [14]. Что касается вагинолизина, то он способствует лизису клеток-мишеней, таких как эпителий влагалища [1]. Другие факторы вирулентности, такие как пролидаза и гликосульфатаза, также связаны с БВ [1].
В целом все эти исследования подтверждают гипотезу о том, что некоторые представители рода Gardnerella с меньшей вероятностью вызывают БВ, тогда как другие более вирулентны и более склонны к развитию БВ [9].
Существуют две основные категории диагностических стратегий для БВ: «прикроватный» метод, введённый в 1983 г., основанный на клинических критериях в режиме амбулаторного приёма — «критериях Амселя», и лабораторное исследование, разработанное в 1991 г., которое опирается на оценку морфотипов по микроскопической картине препарата, окрашенного по Граму — «шкала Ньюджента» [1].
Шкала Ньюджента основана на количественном анализе морфотипов различных микроорганизмов, где используется система баллов, в которой баллы 0–3, 4–6 и 7–10 считаются нормоценозом, промежуточным типом мазка и БВ соответственно [1]. Критерии Амселя и шкала Ньюджента являются наиболее распространёнными методами диагностики БВ, а Всемирная организация здравоохранения считает шкалу Ньюджента золотым стандартом исследований, хотя последняя имеет свои подводные камни [1].
Фактически промежуточная флора пока является не охарактеризованной категорией и проблемой в диагностике БВ. Кроме того, идентификация морфотипов субъективна и зависит от индивидуальных навыков и опыта [1].
Этиология БВ остаётся постоянной загадкой, следовательно, необходимо разработать и применить более комплексные, точные и передовые подходы к его диагностике. Использование новых подходов, таких как секвенирование гена 16S рРНК, липидомика, гликомика, метаболомика и протеомика, обеспечивает дальнейшее понимание особенностей БВ [1, 22, 23].
Blankenstein и соавт. [24] описали новый портативный настольный спектрометр (VGTest), который использовался для обнаружения биогенных аминов, указывающих на БВ, и показали, что данный метод может быть эффективен и точен в амбулаторной практике врача гинеколога.
Тест амплификации нуклеиновых кислот NuSwab выявляет присутствие трёх показателей БВ, а именно Megasphaera тип 1, БВ-ассоциированные бактерии и A. vaginae, а также L. crispatus [25]. ПЦР в реальном времени SureSwab БВ используется для обнаружения трёх видов Lactobacillus, продуцирующих H2O2 (Lactobacillus acidophilus, L. jensenii и L. crispatus), и трёх микробов, ассоциированных с БВ (Megasphaera spp, A. vaginae и G. vaginalis) [26]. Данные тесты могут служить отличным инструментом при выборе тактики лечения у пациентов с первым и рецидивирующим эпизодом БВ.
Так как присутствие сиалидазы в настоящее время считается ключевым показателем БВ, разработан ферментативный подход: тест OSOM BVBlue, который основан на качественном обнаружении высокого уровня сиалидазы, продуцируемой анаэробными патогенами, в образцах выделений влагалища. Доказана его надёжность по сравнению с традиционными методами, такими как критерии Амселя и шкала Ньюджента [1].
Кроме того, исследование, проведённое Liu и соавт. [27] в 2018 г., показало преимущество метода флуоресценции в качестве инструмента для диагностики БВ, основанного на изменении интенсивности светового сигнала с относительной концентрацией сиалидазы в образце выделений. Тест обладает чувствительностью и специфичностью 95,40 и 94,94% соответственно по сравнению с методом Амселя и 92,5% и 91,8% по сравнению с результатами диагностики BVBlue. Кроме того, этот метод более точно классифицирует БВ и оценивает тяжесть заболевания на основе относительной интенсивности флуоресценции (I/I0), он может быть потенциальным инструментом для диагностики БВ на основе уровней активности сиалидазы.
Другой новый подход, основанный на иммунодетекции, также нацеленный на сиалидазу, был разработан для диагностики БВ. Нанофотонный принцип работы этого метода биодетекции позволяет проводить более дешёвый, быстрый и простой анализ, чем непрямой твердофазный иммуноферментный анализ. Данная нанотехнология обладает высокой чувствительностью и специфичностью (96,29%). Этот метод предлагает оригинальный подход к очень быстрой диагностике БВ [7].
С учётом ограничений вышеупомянутых методов диагностики БВ внимание в последние годы сосредоточено на методах молекулярной диагностики, которые позволяют обнаруживать и количественно определять ДНК Lactobacillus spp. и микроорганизмов, ассоциированных с БВ, в первую очередь таких бактерий, как Gardnerella spp., A. vaginae, BVAB, Leptotrichia/Sneathia spp.,Megasphaera spp. и Mobiluncus spp. и др. Lamont и соавт. [28] показали, что молекулярно-генетические методы диагностики демонстрируют более высокую чувствительность в сравнении с диагностическими методами, являющимися золотым стандартом.
Однако в тестировании необходимо отражать как маркеры нормоценоза, такие как L. Crispatus, так и БВ, такие как Gardnerella spp., A. vaginae, а также разработать и количественный, и качественный анализ. Кроме того, важно не забывать о редко встречающихся микроорганизмах, роль которых в развитии БВ остаётся неизвестной, и продолжить их изучение [28].
В Российской Федерации проведён целый ряд исследований, направленных на изучение возможности применения метода ПЦР для диагностики БВ. В работе К.В. Шалепо и соавт. [29] обследованы 222 женщины и показано, что качественное определение G. vaginalis с помощью ПЦР имеет низкое прогностическое значение положительного результата для диагностики БВ, в данном случае гораздо важнее определять её концентрацию.
В, разработанной и запатентованной методике [30] определены молекулярно-биологические критерии (соотношение концентраций ДНК G. vaginalis (s.l.), A. vagineae и Lactobacillus spp. и ДНК общего количества бактерий), позволяющие идентифицировать состояние, соответствующее БВ. Высокие диагностические характеристики разработанной методики для выявления БВ подтверждены в зарубежных исследованиях относительно как классических (критериев Амселя и микроскопии с баллами по Ньюдженту), так и других молекулярно-биологических методов [31].
На основе указанной методики разработаны наборы реагентов для диагностики БВ методом ПЦР, благодаря которым возможно оценить соотношение общего количества бактерий, лактобактерий и условно-патогенных микроорганизмов, ассоциированных с БВ (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва; ООО «НекстБио»).
Полученные к настоящему времени данные по генетической гетерогенности гарднерелл, новая таксономия, подтверждающая существование значительного числе видов, и разная представленность факторов вирулентности среди описанных видов Gardnerella определили значительный интерес к возможности гено- и видотипирования в рамках клинико-лабораторного определения гарднерелл.
Bostwick и соавт. [32] показали, что секвенирование нового поколения обеспечивает подробное описание сложного полимикробного микробиома влагалища и связанных с ним генов, определяющих устойчивость к противомикробным препаратам, что облегчает персонализированную диагностику и терапию для пациентов с осложнённым БВ, и, вероятно, в ближайшем будущем оно заменит метод культивирования.
Balashov и соавт. [33], используя новый молекулярный подход, провели сравнительный анализ, способный идентифицировать и количественно оценить подтипы G. vaginalis, изучив образцы отделяемого влагалища 60 женщин. Выявлено, что высокая распространённость патогенов в 100% случаев наблюдалась у пациенток с БВ, в 97% — у здоровых женщин. Наличие клады 1 отмечено у 53% пациенток, клады 2 — у 25%, клады 3 и 4 — у 32 и 83% соответственно. Несколько клад обнаружены в 70% образцов. Отмечено, что клады 1 и 3 положительно коррелируют с развитием БВ. Кроме того, авторы показали, что изоляты, проявляющие недостаточную сиалидазную активность, более распространены среди здоровых женщин.
Е. Шипицына и соавт. [34] охарактеризовали микробиоту 299 женщин и показали, что количественная оценка всех четырёх клад G. vaginalis различает микробиоту при БВ и нормальную микробиоту более точно, чем измерение гена G. vaginalis sialidase A, а клада 4 тесно связана с микробиотой БВ, несмотря на то что большинство штаммов этой клады не имеют гена сиалидазы А. При выявлении нескольких генотипов гарднерелл одновременно у здоровых женщин концентрация ДНК не превышала 104 ГЭ/мл. Иная картина наблюдалась у пациенток с БВ. При первом эпизоде БВ превалировал 4-й генотип G. vaginalis в качестве как единственного генотипа, так и в сочетании с 1-м, 2-м или 3-м. При рецидивирующем течении БВ выявлялись исключительно сразу 3–4 генотипа G. vaginalis, причём в 78% случаев наблюдалось сочетание 1-го, 2-го и 4-го генотипов, а концентрация ДНК составляла 107–108 ГЭ/мл.
Таким образом, таксономический и бактериальный составы микробиоты влагалища находятся под влиянием внутренних и внешних факторов на протяжении всей жизни женщины. В последние десятилетия понятие бактериального разнообразия этой экосистемы расширилось с помощью молекулярных методов. Микрофлора влагалища здоровых женщин, в которой преобладают лактобациллы, защищающие от инфекции, менее сложна, чем при БВ, представляющая собой разнообразную микробиоту, содержащую многочисленные облигатные анаэробные и некультивируемые виды. Это полимикробное состояние связано с относительно несложными клиническими симптомами, которые встречаются не у всех предъявляющих жалобы женщин, что затрудняет определение его этиологии. Лечение обычно безуспешно, с высокой частотой рецидивов. Необходимы будущие исследования, которые тщательно изучат вагинальное бактериальное сообщество, чтобы культивировать бактерии, связанные с БВ и неэффективностью его лечения, чтобы изучить устойчивость к антибиотикам и установить более эффективные альтернативные терапевтические стратегии, которые уменьшают симптомы БВ, а также связанные с ним осложнения.
Заключение
Генотипирование представляет собой мощный инструмент в диагностике БВ, обеспечивая точные и быстрые результаты. Оно способствует не только улучшению диагностики, но и углублённому пониманию патогенеза нарушения в микробиоме, что, в свою очередь, позволяет разработать более эффективные стратегии его лечения. Дальнейшие исследования в этой области необходимы для оптимизации применения генотипирования в клинической практике.
Понимание роли генотипов G. vaginalis в микробиоте влагалища имеет важное значение для диагностики и лечения различных гинекологических заболеваний. Дальнейшие исследования необходимы для разработки эффективных методов поддержания микробной экосистемы и профилактики дисбиоза во влагалище.
Знание генотипа микроорганизмов у конкретной пациентки даст возможность врачам адаптировать терапию с учётом индивидуальных особенностей её микробиоты.
Сегодня важно использовать метод ПЦР для диагностики ДНК бактерий и классифицировать их по биологическим свойствам. Это позволит дифференцированно и бережно подходить к восстановлению биоценоза влагалища и проводить лечение БВ в тех наблюдениях, где это действительно необходимо.
Дополнительная информация
Вклад авторов. В.Д. Казанцева — работа с данными, написание черновика рукописи; А.Е. Гущин — администрирование проекта, пересмотр и редактирование рукописи; Л.А. Озолиня — определение концепции, пересмотр и редактирование рукописи; Т.Н. Савченко — визуализация, написание черновика рукописи; Ю.Э. Доброхотова — руководство исследованием, разработка методологии, пересмотр и редактирование рукописи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и главный редактор издания.
Additional information
Author contributions: V.D. Kazantseva: data curation, writing—original draft; A.E. Guschin: project administration, writing—review & editing; L.A. Ozolinya: conceptualization, writing—review & editing; T.N. Savchenko: visualization, writing—original draft; Yu.E. Dobrokhotova: supervision, methodology, writing—review & editing. All authors approved the version of the manuscript to be published and agree to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, as no new data was collected or created.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
About the authors
Valeriya D. Kazantseva
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
Author for correspondence.
Email: shapee08@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4011-3195
SPIN-code: 6973-6276
Russian Federation, Moscow
Alexander E. Gushchin
Moscow Scientific and Practical Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Email: aguschin1965@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0399-1167
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, MoscowLyudmila A. Ozolinya
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
Email: ozolinya@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-2353-123X
SPIN-code: 9407-9014
MD, Dr. Sci. (Medicine)
Russian Federation, MoscowTatyana N. Savchenko
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
Email: 12111944t@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7244-4944
SPIN-code: 3157-3682
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, MoscowYulia E. Dobrokhotova
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
Email: pr.dobrohotova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7830-2290
SPIN-code: 2925-9948
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, MoscowReferences
- Chen X, Lu Y, Chen T, Li R. The female vaginal microbiome in health and bacterial vaginosis. Front Cell Infect Microbiol. 2021;11:631972. doi: 10.3389/fcimb.2021.631972
- Ravel J, Gajer P, Abdo Z, et al. Vaginal microbiome of reproductive-age women. Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(Suppl 1): 4680–4687. doi: 10.1073/pnas.1002611107
- Witkin SS, Linhares IM. Why do lactobacilli dominate the human vaginal microbiota? BJOG. 2017;124(4):606–611. doi: 10.1111/1471-0528.14390
- Petrova MI, Lievens E, Malik S, et al. Lactobacillus species as biomarkers and agents that can promote various aspects of vaginal health. Front Physiol. 2015;6:81. doi: 10.3389/fphys.2015.00081
- Javed A, Parvaiz F, Manzoor S. Bacterial vaginosis: An insight into the prevalence, alternative treatments regimen and it’s associated resistance patterns. Microb Pathog. 2019;127:21–30. doi: 10.1016/j.micpath.2018.11.046
- Clinical recommendations: Bacterial vaginosis. 2022–2023–2024 (04.05.2022). Approved by the Ministry of Health of the Russian Federation. Moscow; 2022. (In Russ.)
- Abou Chacra L, Fenollar F, Diop K. Bacterial vaginosis: what do we currently know? Front Cell Infect Microbiol. 2022;11:672429. doi: 10.3389/fcimb.2021.672429
- Muzny CA, Taylor CM, Swords WE, et al. An updated conceptual model on the pathogenesis of bacterial vaginosis. J Infect Dis. 2019;220(9):1399–1405. doi: 10.1093/infdis/jiz342
- Castro J, Jefferson KK, Cerca N. Genetic heterogeneity and taxonomic diversity among gardnerella species. Trends Microbiol. 2020;28(3):202–211. doi: 10.1016/j.tim.2019.10.002
- Priputnevich TV, Muravieva VV, Gordeev AB. The molecular genetic and phenotypic features of synanthropic and pathogenic Gardnerella vaginalis strains. Akusherstvo i Ginekologiya. 2019;(3):10–17. doi: 10.18565/aig.2019.3.10-17 EDN: XSJJNX
- Ivakhnishina NM, Ostrovskaya OV, Kozharskaya OV, et al. Intrauterine and postnatal infection agents detected in autopsy material of lost low-weight children. Far Eastern Medical Journal. 2015;(4):44–47. EDN: VBKVXX
- Liu L, Oza S, Hogan D, et al. Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000-15: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals. Lancet. 2016;388(10063):3027–3035. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31593-8
- Schellenberg JJ, Paramel Jayaprakash T, Withana Gamage N, et al. Gardnerella vaginalis subgroups defined by cpn60 sequencing and sialidase activity in isolates from Canada, Belgium and Kenya. PLoS One. 2016;11(1):e0146510. doi: 10.1371/journal.pone.0146510
- Vaneechoutte M, Guschin A, Van Simaey L, et al. Emended description of Gardnerella vaginalis and description of Gardnerella leopoldii sp. nov, Gardnerella piotii sp. nov. and Gardnerella swidsinskii sp. nov., with delineation of 13 genomic species within the genus Gardnerella. Int J Syst Evol Microbiol. 2019;69(3):679–687. doi: 10.1099/ijsem.0.003200
- Bradshaw CS, Tabrizi SN, Fairley CK, et al. The association of Atopobium vaginae and Gardnerella vaginalis with bacterial vaginosis and recurrence after oral metronidazole therapy. J Infect Dis. 2006;194(6):828–836. doi: 10.1086/506621
- Swidsinski A, Mendling W, Loening-Baucke V, et al. Adherent biofilms in bacterial vaginosis. Obstet Gynecol. 2005;106(5 Pt 1):1013–1023. doi: 10.1097/01.AOG.0000183594.45524.d2
- Machado D, Castro J, Palmeira-de-Oliveira A, et al. Bacterial vaginosis biofilms: challenges to current therapies and emerging solutions. Front Microbiol. 2016;6:1528. doi: 10.3389/fmicb.2015.01528
- Harwich MD Jr, Alves JM, Buck GA, et al. Drawing the line between commensal and pathogenic Gardnerella vaginalis through genome analysis and virulence studies. BMC Genomics. 2010;11:375. doi: 10.1186/1471-2164-11-375
- Lasa I, Penadés JR. Bap: a family of surface proteins involved in biofilm formation. Res Microbiol. 2006;157(2):99–107. doi: 10.1016/j.resmic.2005.11.003
- Swidsinski A, Doerffel Y, Loening-Baucke V, et al. Gardnerella biofilm involves females and males and is transmitted sexually. Gynecol Obstet Invest. 2010;70(4):256–263. doi: 10.1159/000314015
- Cornejo OE, Hickey RJ, Suzuki H, Forney LJ. Focusing the diversity of Gardnerella vaginalis through the lens of ecotypes. Evol Appl. 2017;11(3):312–324. doi: 10.1111/eva.12555
- Oliver A, LaMere B, Weihe C, et al. Cervicovaginal microbiome composition is associated with metabolic profiles in healthy pregnancy. mBio. 2020;11(4):e01851–e018520. doi: 10.1128/mBio.01851-20
- Ferreira CST, da Silva MG, de Pontes LG, et al. Protein content of cervicovaginal fluid is altered during bacterial vaginosis. J Low Genit Tract Dis. 2018;22(2):147–151. doi: 10.1097/LGT.0000000000000367
- Blankenstein T, Lytton SD, Leidl B, et al. Point-of-care (POC) diagnosis of bacterial vaginosis (BV) using VGTest™ ion mobility spectrometry (IMS) in a routine ambulatory care gynecology clinic. Arch Gynecol Obstet. 2015;292(2):355–362. doi: 10.1007/s00404-014-3613-x
- Cartwright CP, Lembke BD, Ramachandran K, et al. Development and validation of a semiquantitative, multitarget PCR assay for diagnosis of bacterial vaginosis. J. Clin Microbiol. 2012;50(7):2321–2329. doi: 10.1128/JCM.00506-12
- Coleman JS, Gaydos CA. Molecular diagnosis of bacterial vaginosis: an update. J Clin Microbiol. 2018;56(9):e00342–e003418. doi: 10.1128/JCM.00342-18
- Liu GJ, Wang B, Zhang Y, et al. A tetravalent sialic acid-coated tetraphenylethene luminogen with aggregation-induced emission characteristics: design, synthesis and application for sialidase activity assay, high-throughput screening of sialidase inhibitors and diagnosis of bacterial vaginosis. Chem Commun (Camb). 2018;54(76):10691–10694. doi: 10.1039/c8cc06300a
- Lamont RF, van den Munckhof EH, Luef BM, et al. Recent advances in cultivation-independent molecular-based techniques for the characterization of vaginal eubiosis and dysbiosis. Fac Rev. 2020;9:21. doi: 10.12703/r/9-21
- Shalepo KV, Nazarova VV, Menukhova YuN, et al. Assessment of current methods of laboratory diagnosis of bacterial vaginosis. Journal of Obstetrics and Womans Diseases. 2014;63(1):26–29. EDN: SEMVLX
- Rumyantseva T, Shipitsyna E, Guschin A, Unemo M. Evaluation and subsequent optimizations of the quantitative AmpliSens Florocenosis/Bacterial vaginosis-FRT multiplex real-time PCR assay for diagnosis of bacterial vaginosis. APMIS. 2016;124(12):1099–1108. doi: 10.1111/apm.12608
- van den Munckhof EHA, van Sitter RL, Boers KE, et al. Comparison of amsel criteria, nugent score, culture and two CE-IVD marked quantitative real-time PCRs with microbiota analysis for the diagnosis of bacterial vaginosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019;38(5):959–966. doi: 10.1007/s10096-019-03538-7
- Bostwick GD, Hunt CA, Parker LR, et al. Utility of next-generation sequencing in managing bacterial vaginosis: examples from clinical practice. J Women’s Heal Care. 2016;5:322. doi: 10.4172/2167-0420.1000322
- Balashov SV, Mordechai E, Adelson ME, Gygax SE. Identification, quantification and subtyping of Gardnerella vaginalis in noncultured clinical vaginal samples by quantitative PCR. J Med Microbiol. 2014;63(Pt 2):162–75. doi: 10.1099/jmm.0.066407-0
- Shipitsyna E, Krysanova A, Khayrullina G, et al. Quantitation of all four Gardnerella vaginalis clades detects abnormal vaginal microbiota characteristic of bacterial vaginosis more accurately than putative G. vaginalis sialidase a gene count. Mol Diagn Ther. 2019;23(1):139–147. doi: 10.1007/s40291-019-00382-5
Supplementary files